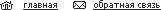Глава 16. Федерико
Мы едем в Кадакес, и вместе с нами — Федерико Гарсиа Лорка1. Сейчас, после Парижа, Брюсселя и Мадрида — после музеев — мы другими глазами видим пейзаж: он обретает классическую завершенность. Над нами то же лазурное небо, впитавшее синеву стольких глаз, глядевших на него тысячелетие за тысячелетием, и та же оливковая роща вдали — какая симфония оттенков гам, где на горизонте зеленовато-лунное серебро олив сливается с закатным пламенем! Море, как хрустальная глыба, пронзенная лучами, вдруг вспыхивает разноцветными огнями и, отражая небесную радужную игру, застывает зеркалом. Закат пламенеет — и кажется, вот-вот случится что-то, не может не случиться! Но ничего сверхъестественного не происходит...
Просто мы с Федерико, взявшись за руки, идем по тропинке, вьющейся по оливковой роще. А там, где кончается тропа, на склоне — россыпь белых, словно миндальный цвет, домиков, чуть розоватых в закатных лучах. Звонят церковные колокола.
И правда, ничего особенного не происходит — случается ежевечернее чудо: гаснет небо, густеет лиловый сумрак, и на краю тропинки загорается зеленый, всегда таинственный огонек светлячка.
Кончается весна. Легкий душистый ветерок навевает воспоминания об иной — незабытой — весне, о той Пасхальной неделе, по которой мы оба тосковали.
Мы возвращаемся с прогулки, а брат, оказывается, все еще в мастерской. Кажется, он не знает усталости. Его картины становятся все классичнее — мягкий свет, выверенная форма, точно выписанная деталь. Сальвадор перешагнул какой-то рубеж и вплотную приблизился к совершенной красоте. Он — наследник великих мастеров, чьими полотнами мы восхищались в музеях.
Но нашлось место и эксперименту. Как-то брат набрал песка, гальки, ракушек и прилепил их к одному из своих пейзажей. Он хотел, чтобы Природа вещественно предстала на полотне. Но еще прежде, чем ракушки осыпались, стало ясно, что они на картине неуместны — не похожи на себя, что Кадакес, море и берег, созданные кистью, вернее передают красоту, чем ее природные частицы.
Сальвадор не сразу с этим смирился — какое-то время мастерская была завалена ракушками и галькой, ссыпавшейся с картин. Но в конце концов лихорадка прошла, и брат взялся за «Хлебную корзинку» — ту самую, что стояла у нас на обеденном столе. И случилось чудо. В этих ломтях белого хлеба, выписанных с такой нежностью и любовью, в этой простой плетенке на белой скатерти — весь Ампурдан, наша родная земля.
Картины, созданные в тот год, прекрасны. Они наполнены высоким спокойствием духа, всецело поглощенного искусством и преданного красоте. «Венера и Купидон», на мой взгляд, лучшая из ранних работ Сальвадора. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы оценить и степень мастерства, и верность двадцатитрехлетнего художника классической традиции. Где он, тот пейзаж, изображенный на полотне? Он узнаваем — это, несомненно, наше побережье, Коста Брава, но где? Нигде и повсюду. Этот солнечный, овеянный покоем классический пейзаж — квинтэссенция Средиземноморья — рожден воображением Сальвадора.
Федерико тоже работает. Он пишет «Жертвоприношение Ифигении»2. Однако будет сильным преувеличением, если я скажу, что, живя у нас, Федерико не отрываясь писал пьесу. Он впитывал нашу природу, подолгу смотрел, как работает Сальвадор, а в сумерках мы гуляли в оливковой роще или у моря. При полном штиле — ни ветерка, ни ряби, только темные скалы, чернея, подрагивают в глубине — Федерико охватывал восторг.
Вечерами, сидя на террасе, мы долго разговариваем — о картинах Сальвадора, о пьесе, задуманной Федерико. Спокойное зеркало моря отражает звездные узоры и огоньки прибрежных домов. Кругом такая тишина! Лишь едва слышно шелестят под легким ветерком листы эвкалипта, а издалека доносится плеск весел.
Федерико читает нам стихи — из «Цыганского Романсеро», из «Песен». А когда его чуть хрипловатый голос смолкает, мы еще долго молчим — эта чудная ночь так рифмуется с его стихами! Луна медленно плывет над морем...
Раннее утро. Солнце, румяное, как земляничка, заглядывает в окна столовой, наполняя ее розовым сияньем.
Я готовлю завтрак. А лодка уже ждет — сегодня мы едем в Туделу. И вдруг в дверном проеме, на фоне сверкающей морской глади возникает силуэт Федерико. Тот же рассветный розовый отсвет лежит на его волосах, на лице. В руке у него коралловая веточка — окаменелое деревце, застывшая сеточка кровеносных сосудов.
Я как сейчас это вижу. Вот он подходит с коралловым деревцем к статуе Мадонны, вкладывает веточку ей в руку — и алое деревце вспыхивает в солнечном луче. Коралловый отсвет озаряет зеленый атлас ниши. Федерико говорит мне: «Доброе утро!» — и улыбается. Улыбка всегда смягчает и неуловимо меняет его лицо. Мы вместе любуемся коралловым деревцем в руке Мадонны — веточка пришлась к месту. Как красит коралловый огонек зеленоватый сумрак ниши!
Когда Федерико впервые появился у нас в доме, мне было семнадцать лет. По тем временам это скорее детство, чем юность. Так, я — в семнадцать лет — еще играла с игрушкой, любимой едва ли не с младенчества, — с медвежонком. Я одевала его как куклу: сшила ему передничек, смастерила шляпу, ботиночки и вечно таскала с собой, а когда мы располагались в гостиной, усаживала на креслице — маленькое, его собственное, — и брат обязательно вкладывал зверенышу в лапы какую-нибудь книжку по философии: «Пускай учится!»
Федерико сразу включился в наш спектакль и стал обращаться с медвежонком как с живым существом. Медвежонок участвовал во всех наших играх и забавах. Как-то Федерико совершенно серьезно спросил меня:
— У него есть имя и фамилия?
— Имя есть, — ответила я, — Медвежонок!
Надо сказать, нас всегда поражало сходство Медвежонка с Эдуардо Маркиной.
— Здесь есть родство! — заключил Федерико и стал звать звереныша «Дон Медведь Маркина».
Я уже говорила, что вечно таскала его с собой, — так Медвежонок попал на фотографии, где мы сняты все вместе. Федерико часто прятал Медвежонка, причем невероятно изобретательно, и бывал совершенно счастлив, наблюдая, как я ищу его и не могу найти. В конце концов я начинала сердиться:
— Федерико! Куда девался Медвежонок?
— Понятия не имею! Или нет у меня забот поважнее Медвежонка?
Если я сердилась всерьез, игра кончалась — Федерико «находил» Медвежонка:
— Да вот же он!
В одном из писем ко мне Федерико упоминает о Медвежонке:
«Поцелуй за меня Медвежонка. Третьего дня мы с ним повстречались у памятника Колумбу3 — наш друг курил сигару».
Медвежонок постепенно стал непременным — третьим — участником наших разговоров. Федерико посылал ему открытки, а как-то раз написал письмо. Я ответила за Медвежонка.
Однажды вечером мне сообщили с телефонной станции, что сеньор Гарсиа Лорка просил предупредить: завтра он приедет в Кадакес, примерно к обеду. Я бросила все и стала готовиться к встрече. Наутро все было готово. Стол на террасе я накрыла именно так, как любил Федерико. Сидела, ждала и радовалась тому, что впереди целый день, который мы проведем вместе. Завидев такси, бегу навстречу и вдруг останавливаюсь как вкопанная — в такси нет Федерико! Только шофер, а на заднем сиденье развалился Медвежонок, моя любимая игрушка, плюшевый мишка! В полном остолбенении смотрю на Медвежонка, потом спрашиваю шофера:
— И больше никого нет?!
— Нет, сеньорита! Тот сеньор посадил мне медведя и говорит — поезжай!
Я чуть не расплакалась, так мне было горько. Беру медведя, иду с ним домой сказать Консуэло, нашей кухарке, что Федерико не приехал, что обеда не будет, но рта не успеваю раскрыть: передо мной, откуда ни возьмись, Федерико собственной персоной! Схватил меня за руку и отчитывает:
Ана Мария Дали, Федерико Гарсиа Лорка и Сальвадор Дали. (Шуточная фотография)
— Думаешь, мне приятно? Только и слышишь, что про Медвежонка! Где мишенька? Куда мишенька запропастился? Пойду мишеньку искать! Хоть бы раз кто спросил, где Федерико! Я и растерялась, и испугалась. Прошу его:
— Ну, пожалуйста, не сердись, не надо!
Но Федерико еще долго гневался, пока мы наконец не выдержали и не расхохотались.
То был чудесный день. Он привез мне в подарок книгу, уже надписанную его друзьями4, и сам надписал рядом: «Все — на колени! Все они у ваших ног, прекрасная Ана Мария. И первый — Федерико». На следующем листе — еще одна надпись: «Милой моей подруге Ане Марии Дали. С нежностью на память от Федерико. Кадакес, июнь 1927».
Поездки в Туделу — одно из незабываемых впечатлений того лета. Нам с Сальвадором страшно хотелось показать Федерико удивительный туделанский пейзаж. И вот лодка и Энрикет уже ждут нас. Сразу после завтрака поплывем. Те места — за мысом Креус — просто великолепны, особенно при яростном полуденном солнце.
Если я скажу, что мраморные глыбы вблизи Туделы цветом более всего походят на старое тусклое золото, то не погрешу против истины. И под стать цвету их мягкие очертания. Между глыбами — чудесные маленькие бухточки.
Туделанская долина — она невелика — стелется зеленым лугом. А по краю берега в ряд выстроились эти причудливые скалы, похожие на разных зверей и птиц. У них есть удивительное свойство — они меняются точь-в-точь как облака. Одна скала похожа на орлицу, раскинувшую крылья над зеленой долиной. А чуть дальше, в туманной дымке, над кромкой моря нависает огромный верблюд. Даже если скала ни на что не похожа, она все равно впечатляет, настолько величественны и совершенны ее очертания.
Сальвадор еще подростком излазил все эти скалы и, взобравшись на очередную вершину, неизменно вытягивал руку вровень с горизонтом. Туделанские скалы невероятно красивы на фоне темного кобальта моря, особенно когда солнце высекает из них искры, отыскивая вкрапления слюды.
Тудела всегда напоминает нам о матери. Всякий раз, когда мы бывали там с нею и приходила пора возвращаться, какая-то особенная, печальная улыбка озаряла материнское лицо, и она говорила:
— Прощай, Тудела! Может, и не свидимся больше! — И, не отрываясь, глядела на удаляющиеся скалы.
В то лето мы довольно часто плавали на мыс Креус и в Туделу. Это теперь там многолюдно, а тогда Тудела оставалась отдаленным, пустынным местом, и добирались туда исключительно морем. Обедали мы прямо на берегу, под Орлиной скалой, и проводили сиесту в подобии пещеры, образованной сомкнутыми скалами. Пещера открывалась морю — синева слепила глаза, а на стенах поблескивали вкрапления слюды. До самого вечера мы бродили среди скал, оранжевых на закате, и возвращались в Кадакес уже почти ночью. Переступив порог дома, Федерико переводил дух и говорил обычно одну и ту же фразу:
— Путешествие в Туделу — это вам не пустяк! Одна обратная дорога чего стоит — то буря, то ураган! Такого страху натерпишься! Но Тудела того стоит.
Мы не могли сдержаться и каждый раз хохотали. На море была тишь да гладь.
Энрикет, наш садовник и мореход — он водит наше суденышко, — феноменально ленив. Стоит нам замыслить очередное морское путешествие, как у него находится тысяча отговорок. То ему «не нравится облачко на горизонте», то ветер дует не туда и не оттуда, — и Энрикет морщит физиономию, выказывая опасения. Однажды Федерико спросил у него:
— Правда, сегодня замечательная погода?
День действительно выдался изумительный — море тихое-тихое, как говорят у нас в Кадакесе, «гладкое, как рыбий глаз». Но Энрикет нахмурился:
— Остереглись бы хвалить!
Он был суеверен и боялся сглазить.
Брат, закончив картину, обязательно показывал ее Энрикету: его комментарии были весьма любопытны. Так, разглядывая «Девушку у окна», Энрикет сказал, что море на картине лучше настоящего, «потому что волны можно сосчитать». Эта фраза так понравилась Сальвадору, что он процитировал ее в одной из статей5 для журнала «Л'Амик де лез Артс».
Когда у Федерико заболело горло, Энрикет поставил диагноз: «фарингит». И по возвращении в Гранаду Федерико сообщил мне: «Я показался врачу, который определил у меня легкий фарингит, болезнь чепуховую, но противную. Так что Энрикет оказался прав».
Энрикет был колоритной личностью. Ни во что он не верил, считал жизнь комедией и все грозил жене, которую звал не иначе как змеей, что в аду-де поразвлечется с танцовщицами в свое удовольствие. (А надо сказать, что жена его, на вид кроткая и тихая женщина, неизменно делала вид, что не слышит оскорблений.) Мысль об аде и танцовщицах просто завораживала Энрикета. Мы часто шутили между собой по этому поводу, и однажды Федерико спросил его:
— А вы уверены, что танцовщицы тоже попадут в ад?
Энрикет обомлел, но все же, собравшись с силами, выдал
головокружительную непечатную руладу:
— ...а где ж им, по-вашему, быть?
Однако сомнение зародилось — целую неделю Энрикет не шутил, не балагурил и не поминал об аде. Потом все вернулось, но какая-то тень осталась. Это страшно забавляло Федерико.
Он любил слушать байки, которые Энрикет обычно рассказывал, управляя нашим суденышком. И даже цитировал нашего морехода. Так, через третьи уста до меня дошла история, живо напомнившая мне байку Энрикета, — Федерико пересказывал ее в Ланхароне и даже дал ей название: «Море не делится, или Эстетика Ланхарона». Вот эта притча:
«Однажды родители побили парнишку. И отняли у него виноград. И порвали платье. Сбежал он тогда из дому, и повстречался ему другой парнишка — тоже плачет. Наш обиженный спрашивает:
— Отчего плачешь?
А тот говорит:
— Пойдем вой туда, на гору, я тебе расскажу!
Пошли. Взобрались они на гору, и начал тот парнишка
рассказывать свою историю:
— Побили меня родители...
Ну и так далее. Тот кончил, а чаш обиженный посмотрел на него без всякого сочувствия и говорит с издевкой:
— И только-то?
У всякого свое море, и сколько ни дели — не поделится!»

С. Дали. Федерико Гарсиа Лорка на берегу. Ампуриас. 1927
В то лето у нас гостил еще один друг Сальвадора — гитарист Рехино Сайнс де ла Маса6, и жизнь нашего дома стала еще богаче. Каждый вечер мы собирались на террасе слушать Рехино. И чаще всего просили его сыграть «Воспоминание об Альгамбре» Тарреги. Рехино никогда не отказывался. Сгущались сумерки, и, едва раздавались первые гитарные аккорды, к террасе сходились тени — наши знакомые, друзья детства. Так мы коротали вечера. Федерико читал стихи, пел андалузские народные песни, хабанеры. И казалось, в эти теплые июльские ночи все живо и трепетно откликалось нежной мелодии этюда Тарреги или песне.
— Ранит в самое сердце! — жаловалась Симона, наша подруга — француженка.
Федерико любил рыться в нашей библиотеке. Обнаружив в ней каталонские издания античных авторов, он обрадовался тому, что правительство Каталонии предприняло издание этой серии, дающей возможность познакомиться с античной классикой в переводе на каталанский. Он горячо советовал мне прочесть «Метаморфозы» Овидия: «Здесь, Ана Мария, все». И правда, с тех пор как я впервые прочла эту книгу, я не расстаюсь с ней, а когда перечитываю, мне слышится голос Федерико, его рассуждения о персонажах, о мифах.
За три месяца, что Федерико прожил у нас тем летом, он не получал писем из дому, вряд ли я запамятовала. Но однажды пришло письмо от отца, в котором Федерико было велено немедленно возвращаться. Послание походило на ультиматум. Федерико вознегодовал, мы тоже, но отмахнуться никак нельзя. Федерико, конечно, очень любил своих и не собирался с ними ссориться, но и уезжать ему тоже не хотелось. Он сказал о письме моему отцу, который долго объяснял, что считает Федерико членом нашей семьи, где все его любят, но — ничего не поделаешь! — отцовская воля есть отцовская воля. Федерико ответил, что готов повиноваться. Однако время шло, Федерико был явно обеспокоен, но об отъезде не заговаривал. Отец догадался о его финансовых трудностях и предложил денег на дорогу. Федерико наотрез отказался. Отец настаивал, и диалог этот длился до тех пор, пока Федерико не осенило: он возьмет деньги в обмен на гонорар за будущую постановку «Марианы Пинеды». Отец нашел это предложение крайне забавным и сказал, что нечего выдумывать бог знает что, а надо ехать — деньги Федерико пришлет из дому, когда сможет. «Ни за что и никогда и ни в коем случае!» Тогда отец, чтобы хоть как-то разрешить ситуацию, согласился принять предложение Федерико. И он тут же написал бумагу, в которой передавал отцу право на гонорар за «Мариану Пинеду»7. Отец вошел в роль и осведомился:
— А если гонорара не хватит?
Федерико не понял шутки и серьезно ответил:
— Не беспокойтесь, я немедленно вышлю недостающую сумму.
Но отец продолжал:
— А как быть в случае, если гонорар превысит сумму долга?
Федерико, по-прежнему не понимая, что над ним подшучивают, отвечал самым серьезным образом:
— В этом случае весь гонорар отойдет вам.
Не в силах дольше сдерживаться, мы с Сальвадором расхохотались.
Помню, отец дал Федерико по крайней мере вдвое больше, чем стоила тогда дорога из Кадакеса в Гранаду. А на другой день вернул Федерико бумагу и сказал, что сожалеет о том, что принял его условия, — ведь не прими он их, Федерико остался бы с нами.
Решено. Федерико едет через неделю. Остаются считанные дни. Вот и предпоследнее утро. Из мастерской брата доносится его невнятное пение, больше похожее на жужжание большого шмеля, — верный признак поглощенности работой. Он и сейчас пишет с утра до вечера, а манера его снова переменилась. Теперь картины Сальвадора исполнены самой смелой фантазии, но в то же время точны в деталях — как у Брейгеля или Босха.
Мы с Федерико, чтоб не мешать брату работать, идем на мыс Сортель. Там песок на берегу желтее, крупнее и жестче нашего, но зато именно там можно отыскать причудливые окаменелости, радужные стекляшки и красивые, отполированные прибоем камни, которые так нравятся брату. С этих причудливых камней он пишет так называемые предметы или аппараты. За ними — «за добычей для Сальвадора» — мы туда и отправляемся. И целое утро роемся в песке, выискивая какую-нибудь диковину. Догадаться, что это — камень, ископаемая кость или обломок раковины, — обычно совершенно невозможно.
А как радостно вдруг у самой воды наткнуться на краба, запутавшегося в водорослях, или углядеть за камнем стайку креветок! Снова, как в детстве, я открываю для себя — а теперь и для Федерико — неприметную жизнь прибрежных лагун. Федерико радуется всякому открытию как ребенок.
— Господи! Смотри — ну и чудище! — И он показывает мне какую-нибудь кроху.
И мы битый час разглядываем рисунок завитков, пятнышки на панцире или розовое робкое щупальце, не переставая удивляться тому, что все они, эти крохи и монстры, заняты одним — охотой друг на друга. Так, роясь в песке и вглядываясь в водный сумрак прибрежных пещер, мы просиживаем под палящим солнцем до полудня. Но пора возвращаться. Пора и Сальвадору оторваться от холста: время купаться.
Обычно мы с братом заплывали довольно далеко, а Федерико неизменно оставался на берегу. Он и не приближался к воде, если нас не было рядом, — волна, даже крохотная, вызывала в нем священный ужас. Он боялся, что «море поглотит его». А если и соглашался войти в воду — на полшага от берега, не дальше! — то при одном условии: я должна держать его за руку. Он боялся, что утонет. Боялся безотчетно, как ребенок.
Иногда Федерико обижался совершенно по-детски и вел себя как обиженный, капризный ребенок. Ему просто необходима была всеобщая любовь и ласка. Обидевшись, грозился уехать:
— Уеду, раз вы меня не любите!
И убегал, прятался. Мы с Сальвадором где только его ни искали, сбивались с ног. Он же, конечно, знал, что мы не находим себе места, и в конце концов, когда мы совсем уже отчаивались, появлялся — веселый, счастливый тем, что о нем тревожатся, — значит, любят.
«Дитенка» — такая у нас была пантомима — поочередно изображали и брат, и Федерико, каждый на свой лад. «Дитенку» Федерико приходилось рассказывать сказку. Начало обязательно интригующее, как можно более захватывающее и желательно є чудесами. Затем следовала ужасающая кульминация, и чем ужаснее, тем лучше для контраста с хорошим концом — чтобы дитя не плакало. Таково непременное условие. Отзвук этой игры слышен в одном из моих писем к Федерико:

Федерико Гарсиа Лорка, Ана Мария Дали и соседские дети. Кадакес
«Брат сейчас в Кадакесе, работает потихоньку. Ты же знаешь — ему ни до чего больше нет дела.
Ты получил письмо, в котором он просит сообщить, что надо написать на обложке?8 Без названия нельзя сделать рисунок — оттого и задержка.
А как он стал писать — дико, мощно! Мне ужасно нравится. По-каталански такое называется macatrefos (в испанском, кажется, нет похожего слова).
Прощай, детка! Ну, посмотри — видишь, звезды по небу плывут, авто вдоль бульвара катится, но мало того! К полюсу через океан плывут — ТЮЛЕНИ! А у самого дна затаились КИИИИИ-ТЫЫЫЫЫЫНН!!!
Ну, не плачь! Поверни головку, вот сюда, вправо! Видишь? Да вот он — ангел-хранитель!
Ну, не плачь же! Вот он! Моргаешь, и кажется, что он пляшет, смеется над тобой и приплясывает.
Ну, вытри глазки!
Вот и ладно!
Прощай, Федерико! Мне очень нравится песня, которую ты мне посвятил9.
Ана Мария».
Была среди наших забав игра, которой просто упивались соседские дети — Мария и Эдуардо. Она называлась «Весточка от Маргариты».
Как-то под вечер мы с детьми гуляли по берегу, и Федерико разыграл целый спектакль. Он вдруг погнался за какой-то бумажкой, поймал ее, «принесенную ветром», и объявил, что это — весточка от Маргариты. Развернул послание и начал читать:
«Милые дети!
Пишет вам белый конь. Смотрите, как ветер треплет мою гриву. Я скачу за звездой. Скачу изо всех сил, а никак не догоню — не получается! Я измучился, выбился из сил и погибаю — ветер скоро совсем развеет меня. Видите, осталась уже только легкая дымка. И она тает».
Мы смотрели во все глаза. И правда, вот он — конь. Ветер колышет гриву, то длинное шелковистое облачко — конский хвост, а два других — крылья. Мы глаз не могли оторвать, и вдруг далеко-далеко, у кромки горизонта загорелась звезда. Мы закричали: «Смотрите, звезда, звезда! Смотрите!»
А в другой раз Эдуардо поднял камешек и протянул Федерико:
— Прочти!
Федерико взял и начал читать:
«Милые дети!
Я здесь лежу уже очень долго. Сколько лет прошло! А прежде, в незапамятные времена — будь они благословенны! — я был крышей над муравейником. Муравьишки верили, что я — небо, и верили так горячо, что я и сам чуть не поверил. Теперь-то я знаю, что я — камень, но все равно потихоньку, украдкой вспоминаю о былом. И прошу вас: никому пи слова. Это тайна».
Вот так мы играли в «весточки от Маргариты». Таинственные письма на воображаемых листах, на камушках, на лепестках цветка, на кленовых листьях...
Все то лето я часто ловила себя на том, что после музеев — Прадо, Лувра — иначе вижу привычный мир: мне открывается в нем новая красота. Искусство, оказывается, учит видеть природу.
Это поразительно, но единственным, главным пейзажем своей жизни Сальвадор выразил все или почти все, что должен был сказать как художник. Его ампурданские пейзажи, если смотреть их в хронологическом порядке, — живое свидетельство его творческой эволюции. Для брата пейзаж Кадакеса стал изменчивой волшебной линзой. Запечатлевая, она преображала каждый миг его жизни, всякое новое состояние души.
Федерико тоже чувствовал магию Кадакеса. Ею, насколько могу судить, проникнута пьеса, которую он тогда писал, — «Жертвоприношение Ифигении».
— Я создам аллегорию Средиземноморья! — говорил он.
Однако — в отличие от брата — Федерико не сидел день и ночь над рукописью. Но я видела, как он впитывает новые впечатления, как чувствует наше море, здешний — единственный — свет и закатную палитру олив. Я видела, как он застывал, потрясенный, ловя тот миг, когда на море опускался «белый покой» — стихали волны, и вода застывала зеркалом, прозрачным до самого дна — так, что было видно, откуда растут скалы. Поэт так же чуток к миру, как и художник. Тот же восторг, то же восхищение я видела в эти минуты и в глазах брата, и в глазах Федерико. Мне кажется, в картине Сальвадора «Венера и Купидон» запечатлено это душевное состояние.
Натура Лорки была такой живой и обаятельной, что все мы сразу оказались под его властью. Характер же — совершенно детский: Федерико просто не мог существовать без любви и ласки. Он хотел, чтобы о нем заботились, чтобы его баловали. И, как ребенок на прогулке, обязательно брал кого-нибудь из нас за руку — так, словно рука друга могла защитить его от смерти, мысль о которой никогда не оставляла.
Иногда Федерико мерещилось, что у него болит горло. При первых признаках недомогания Федерико сам уверялся в серьезности болезни и не позволял усомниться другим. Он требовал заботы, просил сделать эвкалиптовое полоскание — и комната наполнялась благоуханием эвкалипта. Температуру он мерял беспрестанно и ежеминутно выражал готовность проглотить множество таблеток, которых мы не давали, потому что температура оставалась нормальной. Так что лечение сводилось к ласке и потаканию всем капризам.
Страх смерти никогда не отпускал его. Когда мы выходили в море на лодке — при полном штиле, — Федерико боялся смотреть вниз: у него кружилась голова, ему казалось, что лодка вот-вот перевернется и мы потонем. Если же море хоть чуточку волновалось, Федерико боялся, что лодку захлестнет и мы захлебнемся. И только но воскресеньям, в церкви, пока звучала месса, предчувствие вечности смягчало страх смерти...
Величественный барочный алтарь нашей церкви, множество статуй. У подножия — священник в праздничном облачении и музыка, парящая над нами, звуки органа, уносящие ввысь — к ангелам, к небу. Таинственный сумрак, колеблемый теплым медовым пламенем свечей, запах ладана и тающего воска. И слова молитвы, возвышающие душу. Рядом со мной Федерико. Он глубоко взволнован, и я чувствую: сейчас в нем нет страха смерти.
Я, кажется, во всех подробностях помню дни того чудесного лета. С утра в доме закипает жизнь. Заря зажигает коралловый огонек в руке Мадонны (так говорит Федерико), и дом наполняется музыкой. Это Рехино исполняет свой ежедневный урок. Сальвадор торопится в мастерскую — «ловить свет», а
Федерико с воодушевлением выстраивает свою пьесу «Жертвоприношение Ифигении». Наш дом купается в утреннем свете, отражаясь в прозрачной, чуть зеленоватой воде. На берегу рыбаки возятся с сетями. И я, перед тем как заняться завтраком, разговариваю с ними о том о сем, а сама любуюсь нашим домом — он такой ладный! — и радуюсь тому, что в его стенах живет искусство.

Федерико Гарсиа Лорка и Сальвадор Дали
Солнце уже совсем высоко. В саду заливаются птицы, благоухают розы, и только сумрачный кипарис чужд всеобщему ликованью.
За цветами для украшения церкви пришли две девочки с плетеными корзинами. Значит, сегодня вечером я увижу наши розы у барочного алтаря кадакесского храма. Алтарь в нашей церкви похож на огромную золотую раковину, склоненную над молящимися. К его волнистым сводам, украшенным статуями, устремлены глаза рыбаков, хранящие свет нашего моря и зелень наших олив. Рокот молитвы бьет в раковину алтаря, как прибой, и возносится к небу.
Но вот смолкают и музыка, и молитва. Мы выходим и видим, что море потемнело. Беленые стены окрестных домов на его фоне словно светятся изнутри. Воздух уже ощутимо влажен. Ветер ворошит листья олив, оборачивая их нижней — серебряной — стороной. А небо быстро покрывается тяжелыми свинцовыми тучами, и просветы исчезают. Дождь еще не хлынул, но от земли уже тянет влагой.
В предгрозовом свете замерли деревья, словно отлитые из металла. И вот первый гром и первый удар молнии. В домах захлопывают двери и окна, а губы привычно шепчут молитву.
Море вздымается черной глыбой. Гремит гром и эхом отдается в горах. Молнии врезаются в оливковые рощи. Страшно. Но все равно эта гроза с ливнем радует сердце — ведь завтра все зазеленеет!
Если бы так и с бедами... Но разве, когда сгущаются тучи, надежда умирает? Нет — она живет наперекор всему и, случается, не обманывает. Вот и теперь, когда отгремела и отсверкала гроза, нежданный солнечный луч высветил омытый ливнем лик Природы — и дух захватило от красоты. Как прекрасен на чистом небе рисунок дальних гор и четкий абрис прибрежных скал, как свежа зелень, как точно ложится свет!
Туч нет и в помине, лишь легкие облачка. И в довершение чуда рождения заново над миром повисает радуга, дитя воды и света. Переливаясь всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками, капельки трепещут в воздухе, сияя, как драгоценные камни — целое ожерелье! Море недвижно, словно золотое блюдо, — на него опирается радуга. Горизонт далек и чист.
А на краю террасы, у кромки моря, на его золотом фоне — знакомый силуэт. Это Федерико как завороженный глядит в небо. Он так будет стоять, пока не отгорит закат. Он дождется и лиловой дымки, и первого мерцания звезд...
Между мной и Федерико существовало что-то ускользающее от понимания, какая-то таинственная, призрачная жизнь, в которую мы входили, как в сон. Все, что происходило там, казалось естественным, закономерным и понятным — словно иначе и быть не могло. Но после и особенно теперь, когда прошло столько лет, когда мне и самой непонятно, что это было, — что я могу объяснить другим! Сон нельзя объяснить. А та жизнь и сон — одной природы...
Всякий раз, глядя на ту дорогу, я вспоминаю, как лиловели сумерки и все становилось неуловимым, призрачным. Казалось, вот-вот произойдет нечто невероятное, но нет — ничего особенного не происходило, и мы с Федерико, взявшись за руки, возвращались из оливковой рощи. И вот уже снова мелькали вдали беленые стены, розоватые на закате, и звонил церковный колокол, призывая к вечерне...
Я не бывала ни на выступлениях Федерико, ни на дружеских сборищах, где он покорял всех. Мне не пришлось путешествовать с «Ла Барракой»10, и я не видела ни ее спектаклей, ни репетиций.
Я знала другого — домашнего Федерико, и он держался со мной запросто, как с сестрой друга. Он прожил в нашем доме в общей сложности несколько месяцев.
Брат имел обыкновение с утра до вечера писать у себя в мастерской, и Федерико, если сам не работал, довольствовался моим обществом.
Дар дружбы, которым он обладал в полной мере, его живое, естественное обаяние и завораживающая речь творили вокруг него особый мир.
Федерико был образованным человеком, но культуру его нельзя назвать ни рафинированной, ни навязчивой, ни архивной. Культура для него — живой ток преемственности, и часто именно она приводила его к верным, убедительным и в то же время вольным художественным решениям. Педантство глубоко чуждо его натуре. Наверно, поэтому Федерико неизменно сводил к шутке всякую серьезную беседу — ему был просто необходим этот противовес.
Все знают, что Федерико любил играть на рояле и на гитаре, что он пел, аккомпанируя себе на этих инструментах. Но я бы не назвала это пением: слово кажется мне неверным. Певческим голосом Федерико не обладал, и когда пел, то было не пение, а сама песня — она-то и завораживала. И точно так же завораживала неожиданная красота, которую высвечивала в лице Федерико — в общем-то некрасивом, — его улыбка.
Федерико нравилось говорить глупости, придумывать прозвища, словечки, шутить. А шутил он по-детски простодушно.
И радовался, как ребенок, — естественно, открыто — так, что его радости нельзя было не откликнуться.
Но временами Федерико овладевала глубокая печаль. И тогда исчезала сияющая улыбка, а взгляд становился рассеянным и отрешенным, словно бы устремленным к истинному смыслу слов, глубинному смыслу бытия. Лицо его тогда казалось суровым и тревожным.
Тот, кто мало его знал, мог бы подумать, что в нем живут два человека. Это не так. Не два человека — два облика одной души. Не две стороны одной медали, а свет и тень.
Теперь, когда я вспоминаю Федерико, он встает передо мной словно живой в ореоле силы, нежности и доброты.
Стихи он читал без всякой аффектации, так, словно рассказывал о чем-то чудесном, и тем завораживал слушателей, даже если они не улавливали смысла.
Голос у него был глуховатый, но очень выразительный, богатый оттенками. Всякий, кому выпало счастье хоть раз слышать Федерико, по сию пору помнит его интонации и обертоны.
Удивительный, на редкость красивый голос, узнаваемый с первого слова и навеки памятный. Забыть его невозможно, как невозможно забыть то поразительное явление природы, то воплощение гениальности, которое называлось Федерико и при этом как ни в чем не бывало делило с нами кров и пищу.
Федерико не умер. Я и сейчас слышу его смех — заливистый, детский, слышу, как он читает стихи, поет, играет на рояле, — как тогда, в Фигерасе, в Кадакесе.
В сентябре 1935 года труппа Маргариты Ксиргу показывала барселонской публике «Йерму». Как только я узнала, что Федерико в Барселоне, я сразу пошла в театр увидеться с ним. Меня провели к Ксиргу, и она все повторяла:
— Он будет так рад... он тебе обрадуется...
Но пора было начинать, а Федерико все не появлялся, и Ксиргу оставила ему записку о том, что я в театре, в таком-то ряду, место возле прохода. Федерико пришел почти сразу же, как началось представление. Я встала, мы поздоровались, обнялись и, взявшись за руки, как когда-то в Кадакесе, вышли из театра. Казалось, и не было тех семи лет... А может, и, правда, не было...
Мы долго сидели в соседнем кафе — так, словно никогда не расставались. Говорили о нас, о Кадакесе. О брате. Федерико сказал, что все это грустно, что он ничего не понимает. Он ведь умел дружить и всегда был хорошим другом Сальвадору! И правда, Федерико любил его. И потому его, как и нас с отцом, сильно угнетала эта история с братом. Я рассказала Федерико, что год тому назад брат приезжал, говорил, что раскаивается, просил у отца прощения. Отец простил, но какой-то след все равно остался: для нас он уже не тот Сальвадор, что прежде. Федерико горячо убеждал меня, что нужно постараться забыть о том, что разделило нас с братом, перечеркнуть прошлое.
— Я обязательно поговорю с ним, — повторял он. — Мне надо с ним поговорить.
Федерико долго уверял меня, что все еще поправимо, «ведь сделал же Сальвадор первый шаг, ведь он же сам признал, что был не прав».
Мы уговорились созвониться и встретиться. Но случилось так, что я вынуждена была назавтра уехать в Кадакес — внезапно заболела тетушка.
Ни я, ни Федерико не подозревали, что это наша последняя встреча.
Примечания
1. ...и вместе с нами — Федерико Гарсиа Лорка. — Лорка приехал в Каталонию в апреле 1927 года и возвратился в Гранаду в первых числах августа.
2. «Жертвоприношение Ифигении». — В первый приезд в Каталонию Лорка посетил Ампуриас, небольшой приморский городок, унаследовавший имя от греческой колонии Эмпорион, возникшей ок. 550 г. до н. э. Там, по рассказу Аны Марии писательнице Антонине Родриго, он долго не мог оторваться от мозаики «Жертвоприношение Ифигении». (В греческой мифологии отец Ифигении Агамемнон по требованию жреца Артемиды и ахейского войска согласился принести дочь в жертву, но Ифигения была похищена с алтаря богиней, заменившей ее ланью.) Эта прекрасно сохранившаяся мозаика афинской или пергамской работы хранится ныне в музее Ампуриаса (греческий зал). Вскоре после поездки Лорка заговорил о замысле драмы, над которой работал в Гранаде летом 1925 года и в Каталонии летом 1927 года, но пьеса осталась незавершенной. Однако эта тема продолжала волновать поэта — М. Ксиргу вспоминает, что в 1935 году он советовал ей поставить «Ифигению» Еврипида и обязательно сыграть ее в Ампуриасе в естественных декорациях.
3. ...у памятника Колумбу. — Письмо отправлено из Барселоны в конце мая — начале июня 1927 года. Памятник Колумбу работы Каэтано Буигаса (1886), расположенный у Врат Мира, морских ворот города, является символом Барселоны.
4. ...книгу, уже надписанную его друзьями. — Речь идет о сборнике «Песни», изданном в Малаге и присланном Лорке в Барселону его друзьями. На книге автографы всех, принимавших участие в издании: М. Альтолагирре, Луиса Хаэна, Э. Руиса де Порталя, Альваро Ф. Домингеса, Э. Прадоса.
5. ... процитировал ее в одной из статей... — Ана Мария не точна. Дали приводит фразу Энрикета не в статье, а в поэме в прозе «Святой Себастьян», посвященной Ф. Гарсиа Лорке («Л'Амик де лез Артс», 31 июля 1927 года). См. стр. 227 настоящего издания.
6. ...гостил... Рехино Сайнс де ла Маса... — Гитарист Р. Сайнс де ла Маса провел в Кадакесе июль 1927 года.
7. ...гонорар за «Мариану Пинеду». — То есть за мадридскую премьеру, намеченную на октябрь 1927 года. Премьера в столице состоялась 12 октября 1927 года, но гонорара, который Лорка и Дали собирались употребить на издание «Журнала против искусства», недостало бы даже на погашение долга дону Сальвадору.
8. ... надо написать на обложке? — Лорка просил Дали сделать эскиз обложки для гранадского литературного журнала «Эль Гальо» («Петух»), который он задумал и издавал вместе с братом Франсиско.
9. ... песня, которую ты мне посвятил. — Речь идет о стихотворении «Песня дерева» из цикла «Игры» в сборнике «Песни». Ане Марии Дали посвящена первая, более полная редакция стихотворения. См. с. 254 настоящего издания. Обычно стихотворение печатают во второй — короткой — редакции и без посвящения. Книга «Песни» была почти целиком написана в 1922—1924 годах, а подготовлена к печати и отдана в издательство по настоянию друзей (Лорка никогда не торопился с публикацией своих книг) лишь в начале 1927 года.
10. «Ла Баррака». — В марте 1932 года Ф. Гарсиа Лорка становится директором и режиссером бродячего студенческого театра «Ла Баррака», организованного при содействии республиканского правительства. Цель театра — познакомить жителей испанских селений, никогда до того не встречавшихся с театральным искусством, с шедеврами национальной драматургической классики.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |