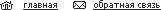Галлюцинации научного видения
"Они съедят тебя заживо, мой мальчик", — предупреждала Дали Гала, хорошо знакомая с нравами сюрреалистов. Бретон, Арагон и компания готовы были предать его анафеме и изгнать из своей среды, как некогда изгнала Сальвадора и его семья. Но он был вынужден, из-за постоянного давления на него соратников по искусству, положить конец этому тяготившему его положению. Сведя счеты с человеком, произведшим его на свет в буквальном смысле, теперь Дали был готов поступить точно также со своим "духовным отцом", Андре Бретоном. И это отлично согласовывалось со словами Фрейда, которые он сделал своим девизом и поставил эпиграфом к своей книге: "Герой — это тот, кто борется против власти отца и побеждает".
Вооружась тем, что он называл "почти иезуитской искренностью", но постоянно имея в виду, что именно ему "скоро предстоит возглавить сюрреализм", Дали воспринимал это направление "вполне буквально, не отвергая ни кровь, ни экскременты, о которых заявляли манифесты сюрреализма. Подобно тому как чтение книг из отцовской библиотеки превратило меня в совершенного атеиста, так и теперь усерднейшее изучение сюрреализма привело к тому, что из всех сюрреалистов я стал единственным, к кому это понятие могло быть применимо в полной мере. Немудрено, что в конце концов меня изгнали из сюрреализма, ибо я сделался сверх-сюрреалистичен".
Добиться от Бретона "отлучения" от сюрреализма было вовсе не трудно. Имя тем, кому уже пришлось сложить свои пожитки, было легион и в этом легионе собрались лучшие, то есть самые независимые и своеобразные. Что ж, каждый садовник подстригает деревья и кусты по своему вкусу. Но Дали, "первозванный апостол сюрреализма", плохо поддавался муштре. В "Дневнике одного гения" он вспоминает: "Когда Бретон познакомился с моим творчеством, его привели в ужас скатологические элементы, пронизывавшие, а вернее — пятнавшие его. Меня это удивило. Самые первые мои шаги были по дерьму, которое, в физиологическом смысле, можно было истолковать как знамение и предвестие золота, к счастью, обрушившееся на меня впоследствии. Я потратил немало усилий, чтобы растолковать сюрреалистам — вся эта скатология приведет их движение к преуспеванию. Но напрасно ссылался я на пищеварительные иносказания, встречающиеся в искусстве всех времен и любой цивилизации, напрасно приводил в пример курочку, несущую золотые яйца, "золотой дождь" Данаи и сказки братьев Гримм. Мне не вняли. И тогда я молниеносно принял решение: не хотите брать дерьмо, столь щедро предлагаемое мною, — я оставлю свои сокровища и золотые россыпи себе. Знаменитая анаграмма "Avida Dollars", придуманная Андре Бретоном двадцать лет спустя, вполне могла бы пророчески прозвучать именно там и тогда".
Гала оказалась совершенно права: сюрреалисты до поры до времени соглашались терпеть скатологические элементы в творчестве Дали, но зато накладывали табу на многое другое. "Снова я столкнулся стой же системой запретов, которые навязывали мне в отчем доме. Кровь изображать — можно. Всякое дерьмо — ради бога! А вот дерьмо в собственном смысле — не пойдет. Запечатлевать на полотне половые органы разрешалось и даже поощрялось, а вот анальные фантазии — ни в коем случае. Подозрительно как-то они смотрелись! Моим сподвижникам очень нравились лесбиянки, но они терпеть не могли педерастов. Садистические сновидения — сколько угодно, и зонтики вкупе со швейными машинками, религию же, даже в самом отстраненно-мистическом плане — ни под каким видом! Грезить о Рафаэлевой Мадонне — если ты грезил о ней просто, без явного святотатства — запрещалось строго-настрого".
Дали постоянно бахвалился, будто вносит раскол в ряды сюрреалистов, даже готов "вывихнуть себе мозги", чтобы придумать, как же заставить коллег принять образы, неприемлемые для их вкуса. И во исполнение этой цели он прибегал к "параноидному средиземноморскому лицемерию", на которое, по его же словам, был способен лишь в "особо извращенном состоянии духа". "Им не нравятся анусы! И я хитро демонстрировал им анусы, замаскированные под что угодно -это были поистине макиавеллиевские анусы. Если же я создавал сюрреалистический объект, где такое сходство уловить было трудно, то весь этот объект становился символической функцией заднего прохода. Так я применял свой знаменитый активный метод параноидно-критического анализа — в противовес чистому, пассивному автоматизму и ультрареакционную, подрывную технику Мейссонье -энтузиазму Матисса и абстракционистам. Ставя заслон культу примитивизма, я отбирал сверхусложненные объекты стиля модерн, которые мы коллекционировали вместе с Диором — они-то в один прекрасный день воскресли в ином качестве и стали восприниматься как "новый взгляд".
Такое отношение Дали к своим соратникам по искусству порождало многочисленные провокации — такие как трехметровая ягодица на подпорке, которой он остроумно наделил Ленина ("Загадка Вильгельма Телля"), И каково же было его разочарование, когда эта деталь не сканДАЛИзировала сюрреалистов. "Однако в этом разочаровании я обрел новые силы. Оно означало всего лишь, что следует идти еще дальше... и добиваться невозможного. Только Арагон возмущался замыслом моей "мыслящей машины"-качалки с мензурками, увешанной стаканчиками с горячим молоком. "Дали зашел слишком далеко! — кричал он в ярости. -Отныне и впредь молоко должно идти только детям безработных!". Дали, выигравший на этом у Арагона очко, поскольку тот угодил в расставленную ему ловушку, был в восторге и воспользовался представившейся возможностью, чтобы добить презираемого противника: "Бретон, которому померещилось, будто прокоммунистическое крыло сюрреалистов скатывается к мракобесию, решил очистить сюрреализм от Арагона и его сторонников — Бунюэля, Юника, Садуля и других. Среди них был и Кревель — чистая душа, искренне верящая в коммунизм. Так вот он-то как раз и не последовал за Арагоном, сказав: "Это путь к торжеству посредственности". В итоге Кревель остался в полном одиночестве и вскоре покончил с собой — идейный крах оказался ему не по силам". Кревель впал в отчаяние от невозможности разобраться в тех неразрешимо-противоречивых идеологических и интеллектуальных проблемах, перед которыми оказалось послевоенное поколение. "То, — продолжает автор "Тайной жизни...", — был уже третий сюрреалист-самоубийца. Кревель делом подтвердил свой ответ на один из вопросов анкеты, опубликованной в первых номерах журнала "Сюрреалистическая революция". Анкета спрашивала: "Самоубийство — это выход?" Кревель ответил: "Да". Я — "Нет". Свой ответ я обосновал непреложным импульсом творческой воли. Но для многих сюрреалистов, увязших в болоте летаргических бесед и политических дискуссий, самоубийство казалось выходом".
Грехом более тяжким, по мнению Бретона, были политические пристрастия Дали. Его убеждения вызывали оторопь, испуг, возмущение, они компрометировали сюрреалистов, никак неспособных взять в толк, что Дали поступал в полном соответствии со своей логикой, восхваляя режимы, которые культивировали существование элиты, иерархические структуры, пышные церемониалы, многолюдные празднества, помпезные ритуалы, всякого рода священнодействия и содержали армии, предназначенные не столько воевать, сколько производить величественное впечатление. Совершенно естественно, что монархиям присущ больший блеск, чем демократиям. К сожалению, то же самое справедливо и по отношению к тоталитарным режимам. Дали хотел, чтобы сюрреализм окружала аура чудесного, и заявлял во всеуслышание, что "левые" — приземленны, прозаичны и сосредоточены главным образом на поисках хлеба насущного. "Политика меня никогда не интересовала, — пишет он, — а в ту пору и подавно, ибо она являла собой до крайности жалкое зрелище. Я как раз всерьез взялся за историю религий, и, в частности, за изучение католической религии — меня пленило в ней редкостное совершенство замысла. <...> Меня всегда интересовали очень богатые люди. И бедняки — мне всегда интересно слушать кадакесских рыбаков. А вот с буржуа мне говорить не о чем — я их просто не замечаю. Но — увы! — именно буржуа так и липли к сюрреалистам, а самым крупным талантам из бретоновской когорты просто не давали проходу. Этих немытых недоумков я боялся как чумы. Завсегдатаи раутов не блещут умом, зато их жены носят алмазы, несокрушимые, как мое сердце, благоухают немыслимыми ароматами и обожают музыку, от которой у меня вянут уши. Я, каталонская деревенщина, простак и шельмец, снисхожу до бесед с ними, и волнующая картина — светская дама (та самая, с почтовой открытки!), припав к моим грязным ногам, взывает о милости — все еще тревожит мое воображение".
Но "фантазии на темы Гитлера" были делом далеко не безопасным, равно как и изображение "гитлероподобной влажной кормилицы" со свастикой. Друзья Дали по сюрреализму даже на секунду не могли себе вообразить, будто его поглощенность образом Гитлера не имеет ничего общего с политикой, а шокирующе двусмысленный портрет феминизированного фюрера проникнут тем же черным юмором, что и изображение Вильгельма Телля с лицом Ленина. Дали с упреком указывали на те детали его произведения, которые могли бы прийтись по вкусу самому Гитлеру — "лебедь, одиночество, мания величия, вагнеровское начало, босховские элементы" ("Метаморфозы Нарцисса", "Лебеди, отражающиеся в виде слонов", 1937, и "Апофеоз Гомера"). "Меня завораживала рыхлая мясистая спина Гитлера, туго обтянутая тканью, — оправдывался Дали. — Как только я начинал писать портупею, шедшую по диагонали от пояса к плечу, мягкая плоть Гитлера, распиравшая его военную тужурку, доводила меня до какого-то вагнеровского экстаза, заставляла мое сердце колотиться, и я впадал в редчайшее возбуждение, какого не испытывал и во время любовных игр... Более того, Гитлер представлялся мне мазохистом, обуянным навязчивой идеей начать войну — для того лишь, чтобы героически потерпеть поражение. Иными словами, он готовился к одному из тех actesgratuits (неосознанных действий), которые так высоко ценились в нашем кругу. Мое упорное стремление взглянуть на окутывающую Гитлера пелену таинственности с сюрреалистической точки зрения и одержимость, с которой я пытался внедрить в сюрреализм элементы садизма и религии (то и другое усиленное моим параноидно-критическим анализом, грозившим разрушить автоматизм и неотъемлемый от него нарциссизм), приводили к бесконечным спорам, а время от времени — и к ссорам с Бретоном и его сподвижниками".
Впрочем, довольно скоро эти разногласия переросли в нечто более серьезное. Призванный держать ответ перед сюрреалистами, Дали появился с термометром во рту, укутанный в свитера, замотанный шарфом, и заявил, что болен — у него грипп. Покуда Бретон читал "обвинительное заключение", Дали время от времени смотрел на термометр. Затем, начав контратаку, принялся стаскивать с себя одежду, сопровождая этот стриптиз речью, тезисы которой набросал заранее. Он оправдывался и настойчиво требовал, чтобы друзья поняли — его одержимость Гитлером носит характер параноический и совершенно аполитична. Разделять взгляды нацистов для него решительно невозможно, ибо "если Гитлер когда-нибудь покорит Европу, то первым делом покончит с такими истериками, как я, что он уже и доказал в Германии, где они были объявлены дегенератами. И в любом случае я придал Гитлеру такой феминизированный и откровенно полоумный вид, что этого вполне достаточно, чтобы нацисты прокляли меня и объявили святотатцем. Помимо этого, мой фанатизм, еще усилившийся после того, как Гитлер вынудил Фрейда и Эйнштейна бежать из рейха, доказывает — этот человек занимает меня исключительно как точка приложения моей собственной мании, а еще потому, что он поражает меня своей беспримерной катастрофичностью".
Разве виноват он в том, что образ Гитлера преследовал его, как в свое время — персонажи картины Милле "Анжелюс"? Когда же Дали в своей речи упомянул, что, по его мнению, "у Гитлера — четыре яичка и шесть слоев крайней плоти", разозлившийся Бретон крикнул: "Долго ты еще будешь тянуть из нас жилы своим Гитлером?!" И Дали, ко всеобщему удовольствию, ответил: "Если бы мне ночью приснилось, что мы с тобой занимаемся любовью, то утром я первым делом запечатлел бы во всех подробностях наши самые удачные позиции". Бретон на миг застыл, стиснув зубами мундштук трубки, а потом с яростью буркнул: "Не советую, дружище". Это столкновение в очередной раз и со всей очевидностью показало, что между ними идет острое соперничество и борьба за власть.
Вслед за этим диалогом Дали получил уведомление о том, что он исключен из рядов сюрреалистов, причем составлено оно было по всем правилам юриспруденции: "Принимая во внимание то, что Дали замечен в неоднократных проявлениях контрреволюционной деятельности, включая прославление фашизма, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем признать его фашиствующим элементом, изгнать из рядов сюрреалистов и всемерно противоборствовать ему". Несмотря на исключение, Дали продолжал принимать участие во всех акциях и выставках сюрреалистов — ибо они очень зависели оттого магнетического воздействия, которое производили на публику его картины, и Бретону это было отлично известно. "Папа сюрреализма" был вынужден смириться с тем, что "параноидно-критический метод" Дали дал этому направлению "первоклассный инструмент". Даже самый отъявленный поборник "идейной чистоты" Андре Тирион не мог не признать, что "чрезвычайно весомый вклад, внесенный Дали в развитие сюрреализма, имел огромное значение для всего движения и для эволюции его идеологии. Те, кто утверждает обратное, либо говорят заведомую неправду, либо ничего не понимают. Не соответствует действительности и утверждение, будто к 50-м годам талант Дали иссяк и выродился, хотя обращение художника к католицизму и в самом деле воздействовало на него пагубно и расхолаживающе... Несмотря ни на что, мы по-прежнему отмечаем в его произведениях блистательное техническое мастерство, неиссякаемое творческое воображение, чувство юмора и особую театральность. Сюрреализм очень многим обязан Дали".
Так что же такое пресловутый "параноидно-критический метод" Дали? В своем конструктивном эссе "Покорение иррационального" (1935) он объясняет так: "В области живописи мои амбиции не простираются дальше того, чтобы с имперски неистовой точностью материализовать конкретно-иррациональные образы, которые не поддаются ни выражению, ни сокращению в системе логической интуиции или с помощью рациональных механизмов. <...>
Параноидно-критическая деятельность: спонтанный метод иррационального познания, базирующийся на интерпретативно-критических ассоциациях, возникающих благодаря бредовому феномену. Этот феномен уже содержит систематическую структуру во всей ее целостности и лишь как следствие критического вмешательства обретает объективные черты. Неисчерпаемые возможности параноидно-критического метода рождаются исключительно "навязчивой идеей". Свое эссе Дали завершает словами, которые могут показаться крутым поворотом, однако на самом деле это предупреждение: с удивительной прозорливостью угадывая связь между обществом потребления и атавистической потребностью в съедобном, он объявляет, что это сходство таит в себе ни больше ни меньше, как "превосходно известную, кровавую, иррациональную отбивную, которая съест нас всех!" Этой антропофагической "отбивной" впоследствии воспользуются Уорхол, Джаспер Джонс, Ольденбург, Весселман и другие, чтобы воспеть бутылку "кока-колы", консервированные супы "Кэмпбелл" и пластиковых женщин американского поп-арта.
И, следовательно, картина "Поэзия Америки" представляет не только то, как Дали покорил Новый Свет — это одно из воплощений его пророческого, параноидно-критического метода: идеализированные воспоминания детства — Ампурданская долина, башня в имении Пичотов, холмы Кадакеса, пейзажи мыса Креус сплавлены воедино с пустынными местностями Северной Америки, ставшей второй родиной художника на все то время, что продолжалась Вторая мировая война. Изображая любой пейзаж — даже самый "чужестранный", — Дали непременно возвращается к своим воспоминаниям. В бескрайнем песчаном пространстве, уходящем в бесконечность, мы видим отдаленный силуэт женской фигуры. На переднем плане две фигуры демонстрируют зверскую жестокость американского футбола. Два игрока — один в черном, другой в белом — стоят лицом клипу; их головные уборы и форма напоминают костюмы итальянского Возрождения. Тот, что в белом, похож на разломанный манекен: его голова пуста, туловище набито опилками, и производит он на свет всего лишь начавшую гнить бутылку "кока-колы", откуда медленно сочится черная жидкость. Черная фигура — новый Адам — рождает человека грядущего: на кончике его указательного пальца балансирует яйцо будущего мира.
По мнению Дали, в этом полотне, исполненном глубокого морального смысла, заключено предвестие великих битв. Черная Америка, торжествующая и устрашенная, едва ли не отказывается присутствовать при неизбежном саморазрушении своего белого брата. В картине Дали одновременно предчувствует и те трудности, которые непременно возникнут после войны между черной и белой общинами, и тот упадок, что ожидает Африку, висящую как карта на фасаде башни-усыпальницы, часы на которой уже отмерили роковой срок. И "кока-кола" также относится к числу прозрений — как говорил Дали Роберу Дешарну, он с фотографической точностью изобразил ее за двадцать лет до Энди Уорхола. Пока американские мастера поп-арта не увидели картины великого каталонца, они долгое время были уверены, что это они, первыми заинтересовавшись предметами обыденными и безымянными, сделали их основой нового жанра.
Итог впечатлениям, полученным Дали от нескольких поездок в Соединенные Штаты, и его размышлениям о динамизме американской жизни, воплощенном в образах двух футболистов, подведены следующей фразой: "Более всего на свете американцы любят кровь — все мы помним знаменитые американские фильмы, особенно исторические. В каждом из них непременно есть сцена, где героя избивают жесточайшим образом и где зритель присутствует на какой-то кровавой вакханалии. За кровью следуют мягкие часы. Почему? Да потому что американцы то и дело проверяют время. Они вечно пребывают в ужасающей спешке, и часы их — ужасающе жесткие, твердые, механические. Так что первые же мягкие часы, написанные Дали, мгновенно принесли ему успех. И немудрено: этот чудовищный предмет, неотвратимо и ежеминутно отмечающий, что истекла еще одна минута их жизни, и напоминающий об их ужасном бизнесе, внезапно взял да и превратился в подобие растекающегося камамбера. Но, разумеется, истинная страсть американцев — наблюдать за тем, как расчленяют их детей. Почему? По заключениям самых прославленных американских психологов, дети постоянно действуют на нервы своим родителям, и потому избиение младенцев — самый излюбленный сюжет, выявляющий, что таится в глубинах человеческого подсознания. И до такой степени, что их преображенное, сублимированное либидо заполняет всю космическую поверхность их снов. А если американцы любят кровавые оргии, и избиения младенцев, и мягкие часы, растекающиеся как настоящий зрелый французский камамбер, то все это происходит потому, что на первом месте в списке их пристрастий занимают все же "точки" — единицы информации, символизирующие отсутствие непрерывности всего сущего. Именно поэтому нынешний поп-арт целиком состоит из таких вот "точек информации".
Все произведения, относящиеся к этому периоду творчества Дали, вооруженного своим "параноидно-критическим методом", носят следы того мощного влияния, которые оказывали на них современная метафизика и научные открытия. На этой фазе "галлюцинаций" и "научных прозрений" были созданы такие работы, как "Дали в яйце" (1942), которую Филипп Хальсман под руководством самого художника перевел на язык фотографии, и "Геополитический младенец", представляющая собой "раскрашенную от руки" версию той же картины. Позже "Мягкому автопортрету с жареным беконом" вторил "Портрет Пикассо". Дали описывал свой "Мягкий автопортрет" как "антипсихологический": "Вместо того чтобы изображать душу — то есть то, что находится внутри, — я решил ограничиться исключительно внешним: это конверт, перчатка. Она съедобна и даже слегка протухла — потому вместе с ломтиком бекона и появляются муравьи. Нет художника великодушней, чем я: кто еще с таким постоянством отдает себя на съедение и тем самым подкармливает наше время "вкусненьким"?! И разве не так же в каком-то смысле поступал Христос?" Портрет Пикассо следует, вероятно, именовать "Официальным параноидным портретом Пабло Пикассо", поскольку он содержит коллекцию фольклорных элементов, в анекдотической форме выявляющей истоки его творчества. Воздавая должное славе своего соотечественника, Дали водрузил его бюст на пьедестал, символизирующий общественное признание; груди воплощают витальный аспект (вскармливание); обломок скалы на голове — ту тяжкую (и катастрофическую) ношу ответственности за развитие современной живописи, которую несет художник. И пьедестал, на котором воздвигнут сам бюст, — это комбинация козлиного копыта и головного убора героини греко-иберийской скульптуры "Женщина с единорогом". Соединение гвоздики, цветущего жасмина и гитары завершает реминисценции с иберийским фольклором. Вскоре после смерти Пикассо Дали так отозвался о самом знаменитом из всех цыган: "Думаю, что магия, присутствующая в творчестве Пикассо, носит романтический характер, то есть основывается на перевернутых вещах, тогда как моя достигается накоплением традиции. Решительно во всем мы противостоим друг другу, поскольку он заворожен не красотой, а уродством, а я — именно красотой, и с каждым годом все больше. Но в таких крайних проявлениях гениальности, как у Пикассо и у меня, уродливая красота и красота прекрасная могут относиться к одному, ангельскому типу".
Среди произведений, обязанных своим появлением "параноидно-критическому методу", — "Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната за миг до пробуждения". Само ее название уже многое объясняет: "Впервые средствами живописи было проиллюстрировано открытие Фрейда — типичный повествовательный сон вызван тем, что будит нас. Если на шею спящему падает какой-то предмет, он одновременно и будит его и подготавливает длинный сон, оканчивающийся гильотинированием; сходным образом жужжание пчелы на картине подготавливает штык, который будит Галу. Лопнувший гранат воплощает весь процесс биологического сотворения. Слон Бернини на заднем плане несет обелиск с папской эмблемой".
По поводу своего полотна "Моя обнаженная жена, созерцающая собственную плоть, превратившуюся в лестницу, в три позвонка колонны, в небо и в архитектуру" Дали высказывался сходным образом: "В пять лет от роду я увидел насекомое, съеденное муравьями, которые оставили от него только панцирь. Сквозь его анатомические отверстия можно было видеть небо. Если мне хочется достичь чистоты, я смотрю на небо через плоть".
Гала, постоянно присутствующая в творчестве Дали, "была самым необыкновенным на свете существом; суперзвездой, с которой ни при каких обстоятельствах не сравнятся ни Мария Каллас, ни Грета Гарбо: — таких, как они, можно встретить довольно часто, она же — существо незримое, антиэксгибиционистка по самой сути своей. Государством, называемым "Сальвадор Дали", правят двое — моя жена Гала и я. Сальвадор Дали и Гала — вот два единственных человека, способных с математической точностью унять или подхлестнуть мое божественное безумие". Одну из своих картин Дали назвал "Галарина": "Гала для меня — то же, чем была д ля Рафаэля Форнарина. И снова, совершенно неожиданно, возникает на этой картине образ хлеба. Точный и проницательный анализ обнаруживает, что скрещенные руки Галы перекликаются с ободком хлебной корзины, ее грудь напоминает горбушку батона. Я уже писал Галу с двумя бараньими отбивными на плече, тем самым выражая свое желание пожрать ее. В ту пору сырое мясо сильно воздействовало на мое воображение. Теперь, когда Гала поднялась в геральдической иерархии моей знати так высоко, она сделалась моей хлебной корзинкой".
Описание этой картины выдержано в непривычно смиренных для Дали тонах: "Небо... Это его искал я, изо дня в день раздирая крепкую, призрачную, сатанинскую плоть моей жизни. Горе тому, кто до сих пор еще не понял этого! В первый раз увидев выбритую женскую подмышку, я искал небеса. Вороша тростью гниющие, кишащие червями останки моего ежа, я искал небеса... Но где же оно, небо? Что оно такое? Гала, ты — реальность! Небо не над нами и не под нами, не слева и не справа. Небо — в сердце человека, если он верует. P.S. В данный момент я не верю и боюсь, что так и умру, не увидев неба".
Но как бы глубоко ни погружался Дали в подобные метафизические размышления, он ни на миг не переставал зарабатывать деньги — и большие деньги. Американская жизненная энергия оказалась чрезвычайно питательной для него -можно сказать, это была идеальная диета. Он создавал эскизы ювелирных изделий и интерьеров, придумывал композицию товаров, выставленных в витринах крупных универмагов. Он сотрудничал с ведущими журналами мод — такими как "Вог" и "Харпер'з Бэзар", оформлял балетные спектакли и книги, писал и печатал статьи, принимал участие в съемках фильмов — и гораздо больше говорил о покорении действительного, нежели о познании иррационального. Журнал "Арт Ньюс" по этому поводу не без яда замечал: "Не исключена возможность того, что Дали и впредь будет уделять больше внимания сфере сознательного, чем бессознательного. Если так пойдет и далее, ничто уже не помешает ему превратиться в величайшего академиста двадцатого столетия". Но никто лучше самого Дали не знал сути происходящих в нем перемен: "Две самые разрушительные неприятности подстерегают бывшего сюрреалиста — во-первых, стать мистиком и, во-вторых, уметь рисовать. Я был одарен свыше обоими видами этой созидательной силы. Каталония подарила миру трех гениев — Раймунда де Себонде, автора "Естественной теологии"; Гауди, создателя "средиземноморской готики"; Сальвадора Дали, основателя параноидно-критического мистицизма и, как указывает его крещальное имя, спасителя современной живописи. Глубокий кризис мистицизма объясняется прежде всего достижениями в некоторых областях науки, и прежде всего — тем, что материальность целого ряда физических понятий (квантов, к примеру) обрела метафизически-духовное измерение. И — на уровне менее вещественных разочарований — тем, что в целостности общей морфологии образовались постыднейшие, сверхстуденистые разрывы..."
Дали дает подробный отчет о своем обращении к мистицизму: "Взрыв атомной бомбы в августе 1945 года отозвался во мне сейсмическим толчком. С той поры атом занял в моих мыслях центральное положение. Многие из написанных в тот период картин передают то ощущение безмерного страха, обуявшее меня после того, как я услышал о взрыве. С помощью параноидно-критического метода я стремился постичь мир, желая понять природу вещей, их скрытых сил и законов, которыми они управляются, для того чтобы подчинить их себе и властвовать над ними. Блистательное озарение — и я понял, что в моем распоряжении имеется необычное оружие, и благодаря ему я и проникну в самое средоточие реальности. Это оружие — мистицизм, то есть глубокое, интуитивное понимание сути, прямая связь со всем, абсолютное видение, дарованное благодатью истины и Божьей милостью. Лучше всяких циклотронов и электронно-вычислительных машин я в мгновение ока способен проникать в тайны реальности. Это мой экстаз. Экстаз Бога и человека. Мне принадлежат совершенство и красота, и я могу заглянуть им в глаза! Конец академизму, бюрократическим правилам искусства, декоративному плагиату, тусклой невнятице африканского искусства! Мне принадлежит Св. Тереза Авильская!.. Когда я впадаю в этот пророческий транс, мне делается ясно, что наивысшей своей точки, наибольшего совершенства и эффективности средства живописного выражения достигли в эпоху Возрождения, а упадок современной живописи стал следствием скептицизма и неверия, плодом механистического материализма. Вдыхая новую жизнь в испанский мистицизм, я, Дали, использую свое творчество, чтобы показать единство Вселенной и духовную сущность всякой субстанции".
Увлечение мистицизмом было логическим следствием всего предшествующего творческого опыта Дали. С этого времени и уже до конца жизни творчество художника было проникнуто мистицизмом, и он не только не скрывал, но и всячески декларировал его. И что бы ни говорили о его картинах этого периода, Дали предстояло создать еще множество истинных шедевров.
Своим "Искушением Св. Антония" Дали, хоть и называвший себя "бывшим сюрреалистом", оставался таковым в большей степени, чем когда-либо, отметив появление в своей "вселенной" некоего посреднического измерения между небесами и землей — оно воплощено в образы слонов с длинными тонкими ногами. Эти животные словно бы предвещают тему левитации, победы над силой земного тяготения, которая вскоре получит более полное развитие в цикле "мистико-корпускулярных" картин. Искушения предстают пред Св. Антонием вереницей образов: на переднем плане вздыбленный конь одновременно символизирует мощь и чувственное наслаждение; за ним следует группа слонов. У первого на спине — Чаша Желания, увенчанная фигурой обнаженной женщины, охваченной вожделением; на спине второго — обелиск, напоминающий творение римского скульптора Бернини. Замыкают это шествие слоны с архитектурной композицией в духе Палладио и с фаллической башней. В разрывах туч на заднем плане виднеется Эскориал, воплощающий духовный и мирской порядок. Начиная с этого времени, творчество Дали будет всецело посвящено синтезу трех начал — классической живописи, атомной эры и напряженного спиритуализма.
"Идеи, обуревавшие меня, были оригинальны и изобильны. Я решил уделить основное внимание воплощению квантовой теории средствами живописи и изобрел "квантовый реализм", чтобы подчинить себе закон земного тяготения... Я написал "Атомную Леду", прославляя Галу, богиню моей метафизики, и преуспел в создании "плавающего пространства". Затем появилось полотно под названием "Я в возрасте шести лет, когда мне показалось, что я девочка, осторожно приподнимающий оболочку моря, чтобы посмотреть на собаку, спящую под сенью воды" — на нем фигуры и предметы кажутся инородными телами в космическом пространстве. Я мысленно дематериализовал их, а затем представил их духовную сущность, чтобы получить возможность сотворить энергию. Предмет, благодаря содержащейся в нем и излучаемой им энергии, благодаря плотности вещества, из которого он состоит, — это живое существо. Кроме того, каждый из моих предметов — это еще и минерал, имеющий собственное место в пульсирующем мире... Я непреложно убежден, что небеса заключены в груди верующего. Мой мистицизм — не только религиозный, он — ядерный и галлюциногенный. Ту же истину я открыл в золоте, в изображении мягких часов, в представшем мне видении вокзала в Перпиньяне. Я верю в магию и в свою судьбу".
Первыми картинами этих новых серий стали две версии "Мадонны Порт-Льигата" — меньшую по размеру Дали 23 ноября 1949 года преподнес папе Пию XII. Однако наибольшей известностью пользуется, несомненно, "Христос Сан-Хуана де ла Крус", где фигура Христа занимает все небо над бухтой Порт-Льигата. Композиция картины была навеяна рисунком Сан-Хуана де ла Крус, выполнившего его в состоянии религиозного экстаза (он хранится ныне в монастыре Энкарнасьон в Авиле). Фигура подлодкой — "цитата" из картины "Крестьяне перед домом", принадлежащей кисти Ленена, а второй персонаж слева на заднем плане воспроизводит набросок, который Веласкес сделал углем для "Сдачи Бреды".
Дали толковал эту картину так: "Замысел ее возник в 1950 году после того, как в "космическом сновидении" мне предстало цветное изображение атомного ядра, которое впоследствии обрело и метафизический смысл. Я увидел в нем ядро Вселенной — Христа! Затем, благодаря монаху-кармелиту отцу Бруно, показавшему мне нарисованную Сан-Хуаном де ла Крус фигуру Христа, я построил геометрическую композицию из окружности и треугольника, ставшую эстетическим итогом всего моего творчества, и вписал в треугольник Христа".
Религиозно-мистические сюжеты не отвратили Дали от "мирских тем", к которым он обращался время от времени. Эротический бред придавал мистике особую глубину. "Эротика — магистральный путь Божьего духа". Дали свел давние счеты со своей сестрой, написав ее в образе "Юной девственницы, удовлетворяющей себя рогами собственного целомудрия". Как видим, даже если он на какое-то время отклонялся от своих излюбленных тем, то непременно возвращался к ним вновь. "Живопись — как любовь, — заявлял он, — Мой эротический бред побуждал меня возносить присущую мне тягу к содомскому греху до высот пароксизма". Дали написал портрет сестры в ранний, "скатологический" период своего творчества, изобразив ее со спины, в таком ракурсе, который подчеркивал ее ягодицы ("Женщина у окна"). С тем чтобы смысл полотна был понятен каждому, а заодно и чтобы сканДАЛИзировать сюрреалистов, он дал ему еще одно название: "Портрет моей сестры с задом, красным от кровавого дерьма". Спустя двадцать лет его память несколько приукрасила приземистую тучную фигуру Аны Марии Дали — вдохновленный фотографией в порнографическом журнале, он совершенно преобразил сестру. На этом примере прекрасно видно, как происходит у Дали творческий процесс — реальные черты, память о которых еще свежа, приводят в движение целую систему "маховиков" и "шестеренок", заставляющих рассудок переосмыслять и анализировать самые необузданные эротические фантазии. Благодаря этому в 1954 году картина отходит от своей первоосновы, обретая иное, метафорическое звучание — твердость "облагороженного" зада выявляет существующее лишь в воображении сходство с носорожьим рогом, уже послужившим в свое время к дефлорации вермеровской "Кружевницы", а ныне дарующим Сальвадору Дали иллюзию необыкновенной эрекции, которая позволяет ему реализовать свою мечту — проникнуть в "красный от кровавого дерьма" зад сестры. Месть — это каталонское кушанье и подается охлажденным! Выразив свои устремления с помощью носорожьего рога, Дали удалось соблюсти и требования "моральной чистоты", которая с определенного времени стала в его глазах "важнейшим предварительным условием обретения духовности".
Такие произведения, как "Открытие Америки Христофором Колумбом", "Ловля тунца" и "Галлюциногенный тореадор", — типичные примеры гигантизма, превалирующего в творчестве позднего Дали. Эти картины, обычно "населенные" дионисийскими фигурами, представляют собой нечто вроде творческого завещания, подводящего итоги сорокалетних неистовых поисков и открытий. В них сплавлены воедино все стили, в которых когда-либо работал Дали. В таких произведениях, как "Дали пишет портрет Галы, отражающейся в зеркале", "Рука Дали похищает золотое руно в форме облака, чтобы показать Гале совершенно обнаженную зарю, которая находится далеко-далеко за солнцем" и "Дали, приподнимающий поверхность Средиземного моря, чтобы показать Гале рождение Венеры" (1977), художник средствами стереоскопии создает свои последние визуальные поэмы, отдавая прощальную дань своему земному "двойнику", творцу "метафизического фотореализма". "Бинокулярное зрение — Троица трансцендентальной физической перцепции. Бог-Отец, правый глаз, Бог-Сын, левый глаз, Дух Святой, мозг, чудо языка огня, светящегося виртуального образа, который становится не подверженным порче, чистым духом, Святым Духом" ("Десять способов обрести бессмертие", 1973).
"Я — не клоун! — защищался от нападок Дали. — Но наше безмерно циничное общество еще так наивно, что не видит, кто же напускает на себя серьезный вид, дабы получше скрыть свое безумие. Я никогда не устану повторять: "Я — не безумен! Мое ясновидение достигло такой остроты и степени концентрации, что на протяжении всего нашего века не появлялось личности более героической, сильнее поражающей воображение, чем я, и, если не считать Ницше (впрочем, в конце концов сошедшего с ума), равновеликого мне не бывало и в иных эпохах. Моя живопись доказывает это".
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |